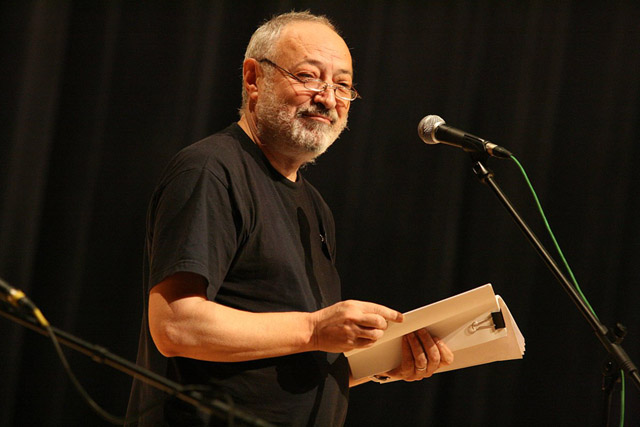В 2007 году Бахыт Кенжеев признался в одном интервью: «Мой покойный друг поэт Саша Сопровский, который был главным основателем группы «Московское время» (в нее также входили Цветков, Гандлевский и ваш покорный слуга), выпив, говорил: «Одним из доказательств существования Бога служит тот факт, что чудный дар Он, как монетки в толпу, бросает не глядя − кому что перепадет. Если бы Его не было, то разве стали бы поэтами этот чучмек-фарцовщик (то есть Кенжеев) и этот филологический мальчик из интеллигентной семьи (то есть Гандлевский)?». Он, конечно, прав. Сидишь, бывало, ничего не делаешь, вдруг какая-то строчка… Ты ее запоминаешь. Потом она обрастает другими строчками. После ее можно и потерять. Это всякий раз − неожиданно. И всегда − ощущение полного счастья, потому что тебя это не оставило. Как небольшое любовное приключение: в моем возрасте этому всякий раз радуешься. Я считаю себя очень счастливым человеком. Прежде всего потому, что сочиняю стишки. Да и во всем остальном как-то всегда везло. Иной раз какая-нибудь гадость случается, а потом вдруг выясняется, что − на пользу. Случайностей не бывает. Где-то в стихах я процитировал Набокова: наша жизнь − это изнанка ковра. Сам узор нам видеть не дано − только узелки. Но узор-то есть − и великолепный. И мы можем о нем догадываться».
***
Было: медом и сахаром колотым −
чаепитием в русском дому, −
тонким золотом, жаром и холодом
наше время дышало во тьму,
но над картой неведомой местности
неизвестная плещет волна −
то ли Санкт-Петербург и окрестности,
то ли гамма в созвездии сна −
и окошки пустые распахнуты
в белокаменный вишневый сад,
где игрок в кипарисные шахматы
на последний играет разряд.
Пусть фонарь человека ученого
обнажил на разломе эпох,
что от белого неба до черного
только шаг, только взгляд, только вздох −
пусть над явной космической ямою,
где планета без боли плывет,
золотою покрыт амальгамою
крутокупольной истины свод −
пусть престол, даже ангелов очередь −
но учителя умного нет
объяснить это сыну и дочери,
только свет, улетающий свет.
Вот и все. Перебитые голени
не срастутся. Из облачных мест
сыплет родина пригоршни соли на
раны мертвые, гору и крест,
на недвижную тень настоящего −
костяного пространства оскал, −
отражения наши дробящего
в бесконечной цепочке зеркал.
Утро близится. Уголья залиты.
Поминальные свечи горят.
На каком ледяном карнавале ты,
брат мой давний, бестрепетный брат?
***
Спят мои друзья в голубых гробах. И не видят созвездий, где
тридцатитрехлетний идет рыбак по волнующейся воде.
За стеной гитарное трень да брень, знать, соседа гнетет тоска.
Я один в дому, и жужжит мигрень зимней мухою у виска.
Я исправно отдал ночной улов перекупщику и притих,
я не помню, сколько их было, слов, зарифмованных и простых,
и на смену грусти приходит злость − отпусти, я кричу, не мучь −
но она острее, чем рыбья кость, и светлее, чем звездный луч.
***
Переживешь дурные времена,
хлебнешь вины и океанской пены,
солжешь, предашь − и вдруг очнешься на
окраине декабрьской ойкумены.
Пустой собор в строительных лесах.
Добро в мешок собрав неторопливо,
с морскою солью в светлых волосах
ночь-нищенка спускается к заливу.
Ступай за ней, куда глаза глядят,
расплачиваясь с шорохом прибоя…
Не здесь ли разместился зимний ад
для мертвых душ, которым нет покоя,
не здесь ли вьется в ледяной волне
глухой дельфин и как-то виновато
чадит свеча в оставленном окне?
Жизнь хороша, особенно к закату,
и молча смотрит на своих детей,
как Сириус в рождественскую стужу,
дух, отделивший мясо от костей,
твердь − от воды и женщину от − мужа.
***
Еще глоток. Покуда допоздна
исходишь злостью и душевной ленью,
и неба судорожная кривизна
шумит, не обещая искупленья −
я встану с кресла, подойду к окну
подвальному, куда сдувает с кровель
сухие листья, выгляну, вздохну,
мой рот немой с землей осенней вровень.
Там подчинен ночного ветра свист
неузнаваемой, непобедимой силе.
Как говорит мой друг-позитивист,
куда как страшно двигаться к могиле.
Я трепет сердца вырвал и унял.
Я превращал энергию страданья
в сентябрьский сумрак, я соединял
остроугольные обломки мирозданья
заподлицо, так плотник строит дом,
и гробовщик − продолговатый ящик.
Но что же мне произнести с трудом
в своих последних, самых настоящих?